Искусство после Сребреницы
Как сербские художники переживали войну

Опыт Сербии последних тридцати лет показывает, что война за порогом неизбежно становится главным сюжетом современной культуры. Анна Толстова рассказывает, чем жили сербские художники до, во время и после югославских войн и каким они показывали сербское искусство миру.
Над входом в национальный павильон в Джардини, садах Венецианской биеннале, до сих пор красуется монументальная, словно бы выгравированная в каменной плоскости фасада надпись «Jugoslavia»: она кажется неотъемлемой частью архитектурного замысла, оказавшегося прочнее замысла многонационального государственного образования. Надпись, впрочем, обозначает не Социалистическую Федеративную Республику Югославия (СФРЮ), а Королевство Югославия, которое и приобрело павильон в 1938 году, тогда же, незадолго до своей кончины, дебютировав на биеннале. Сбоку буквами поскромнее выведено «Serbia»: югославский павильон, плавно перешедший из собственности королевства в собственность республики, унаследовала Сербия, а остальным государствам бывшей Югославии приходится арендовать помещения под павильоны за пределами райских биеннальских садов. Конфликт между двумя именами на фасаде был обыгран в 2015-м, на 56-й Венецианской биеннале, когда независимую — ни от кого, даже от Черногории,— и очень молодую, готовящуюся через год отпраздновать свой первый, десятилетний юбилей Сербию представлял художник из Белграда Иван Грубанов: на полу павильона, как павшие на поле боя, лежали флаги не существующих более государств — проект назывался «Организация мертвых наций». Смерть, война, конфликт, насилие, изоляция — эти подспудные мотивы настойчиво звучат в сербском искусстве последних тридцати лет, особенно у тех художников, кому сейчас около пятидесяти и чья юность пришлась на военное десятилетие.


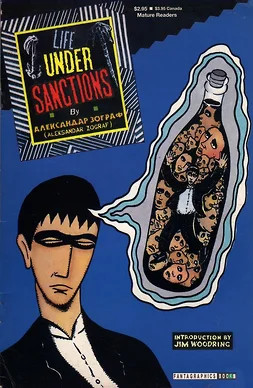
Например, у белградского скульптора Радоша Антониевича, в инсталляциях которого даже византийские храмы обретают формы военных палаток и бронетехники. Самый выдающийся скульптурный замысел Антониевича, к сожалению, остался нереализованным. В 2003-м он участвовал в конкурсе на памятник жертвам войны — памятник по проекту Антониевича должен был разместиться в парке «Звездары», астрономической обсерватории Белграда, и представлял собой гигантскую бетонную голову, отсылающую к мегаломанскому бетонному брутализму титовских времен. В отрубленную голову, лежащую на затылке и глядящую в небо, можно бы было войти через портал в шее, воображая, что движешься по сонной артерии, и, попав внутрь черепной коробки, смотреть на звезды сквозь глазницы или же слушать дождь, падающий внутрь, как какие-то неправильные, неуместные слезы.
